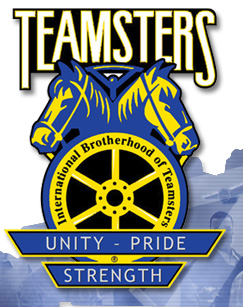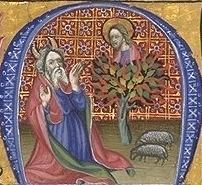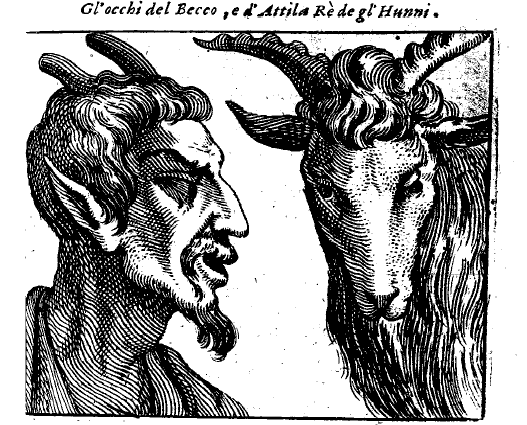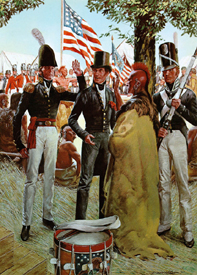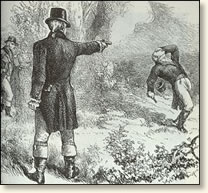На фоне последних законодательных инициатив по освещению деятельности "иностранных агентов" и проведению в жизнь ряда инициатив, которые вошли в историю под общим названием "оранжевая революция", возник резонный вопрос - кто за ними стоит? Ответ, как всегда, прям, как палка-копалка - американцы. Если не знаешь на кого и что валить - лучше всего, конечно, валить все на американцев, англичан и общий жидо-масонский заговор от которого, ясен пончик, страдает и Россия.
Генезис
Первое серьезное столкновение про-революционных сил, обозначим их термином - "оранжисты", с монолитной организацией федералистов-"охранителей" произошло в пору президентства Джона Адамса (John Adams).
(этот серьезный дядька на картине и есть тот самый Джон Адамс).
Расклад сил был следующий - в правительстве Джона Адамса сложилась интересная ситуация - сам президент был выдвинут на пост федералисткой партией, безоговорочным лидером которой был Александр Гамильтон, а вот на пост вице-президента, заняв второе место на выборах, был назначен Томас Джефферсон, формальный лидер оппозиционной "республиканской" (демократической) партии.
По началу непримиримые противники сделали хорошую мину при плохой игре, решив, что президент из одной группы влияния сработается с вице-президентом из другой группы, но сама жизнь все быстро расставила на свои места. Дело, как сейчас помню, было так. Во Франции, как мы помним, произошла Революция от которой содрогнулись европейские монархи и на повестке дня стоял тяжелый для США вопрос - кого, блин, поддерживать в Европе и надо ли вообще ввязываться в европейский разборки.
Как всегда, мнения на один и тот же вопрос кардинальным образом разошлись - президент проводя "политику партии" делал все, что бы пойти на союз в Англией в намечавшейся войне, вице-президент, в свою очередь, придерживался того мнения, что лезть в европейские дела вообще не надо.
Отношения с Англией и Францией
При этом нелишне будет вспомнить, что хорошо сплоченная и щедро финансируемая партия федералистов уже добилась заключения невыгодного для США мирного договора в Англией (Jay's Treaty), чем вызвала не только неодобрение со стороны Франции, но и со стороны республиканской партии Джефферсона.
Для решения вопросов по поводу захваченных судов с выкобеневающейся Францией Джон Адамс направляет трех дипломатов, которым пришлось столкнуться с интригами со стороны французского министра иностранных дел - Тайлерана.
Consequently, in 1796 French leaders decided to issue an order allowing for the seizure of American merchant ships, carefully timed to catch as many as possible by surprise. President John Adams dispatched three U.S. envoys to restore harmony between the United States and France—Elbridge Gerry, Charles Cotesworth Pinckney, and John Marshall.



These commissioners, like others of the Adams administration, viewed France as a center of decadence and intrigue and the rampant intrigue and factions of the Directory made it difficult for the Americans to accomplish their mission. Upon arriving in France, Gerry, Pinckney and Marshall found that they were unable to formally meet with the Foreign Minister, the Marquis de Talleyrand. The U.S. envoys were instead approached by several intermediaries, Nicholas Hubbard (later W,) Jean Hottinguer (X), Pierre Bellamy (Y), and Lucien Hauteval (Z.) Also involved with these negotiations was the playwright Pierre Beaumarchais, who had been involved in funneling French aid to the United States during the American Revolution. These French intermediaries stated that Talleyrand would be willing to meet with the Americans and come to an agreement if several conditions were to be satisfied. The French demanded that the United States provide France with a low-interest loan, assume and pay American merchant claims against the French, and lastly pay a substantial bribe to Talleyrand. The U.S. envoys were shocked, and also skeptical that any concessions would bring about substantial changes in French policy.
In the meantime, the envoys’ dispatches reached the United States. President Adams prepared for war, and pro-war Federalists pushed Congress to support him. Leaders of the Democratic-Republican party were suspicious of Adams’ motives and demanded that he publicly release the diplomatic correspondence describing the negotiations in France. Adams, knowing its contents, obliged them and released the correspondence, but replaced the names of the French intermediaries with the letters W, X, Y, and Z. Thereafter Adams continued preparations for war, but did not venture to openly declare war. Talleyrand, realizing his blunder, attempted to restore relations, and Congress approved a commission to negotiate an agreement with the French government. In the meantime, the U.S. Navy began to fight the French in the Caribbean, while offering support to Toussaint L’Ouverture in Haiti. In 1799, Congress also passed the Logan Act in response to the visit of a pacifist Quaker, George Logan, who conducted negotiations with Talleyrand as a private citizen and returned to the United States announcing Talleyrand’s peaceful intentions. The Logan Act criminalized unauthorized diplomatic negotiations.
Последствия дела о дипломатическом подкупе
Дело, в общем, выглядело не слишком хорошим - направленные на переговоры дипломаты столкнулись с требованиями выплат взяток французскому министру за решение подобного рода вопросов и когда подробности по требованию парламента выплыли наружу разразился большой скандал, который подорвал позиции республиканцев и дал дорогу "странной войне" (Quasi-War). В разразившейся ситуации истерии и анти-французских настроений федералисты-"охранители" традиционных устоев общества во главе с Гамильтоном протолкнули ряд законодательных актов, которые вошли в историю под общим названием "Акты об иностранцах и мятежах" (The Alien and Sedition Acts).

Под действия закона попадали иностранцы, которые "замышляли недоброе против США" (читай - все) и закончилось это все тем, что даже бывшим революционным героям типа Тадеуша Костюшко (Thaddeus Kosciusko) пришлось бежать из страны, другим, таким как, Мэтью Лайон (Matthew Lyon), пришлось сесть в тюрьму. Позиция Джефферсона на подобные "закручивания гаек" была однозначной - федеральное правительство - это абсолютное зло.
Развязка
Закончилась эта "предвоенная" истерия, правда, как-то странно - до полномасштабной войны с Францией не дошло, федералисткий президент Адамс проиграл выборы, а его место занял "французский агент" и по совместительству "оранжист" Джефферсон, который умудрился еще выкупить Луизиану.
Гамильтон, правда, возражал против такого ведения дел (в ущерб Англии), но его в конце концов уговорили не дергаться.












 Р
Р